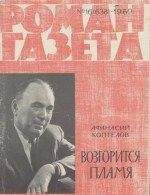Афанасий Коптелов - Дни и годы[Из книги воспоминаний]
— Нектар пчелки найдут возле дома! — сказал Вася. — Будет колхоз с медом, как при тяте. Не подведем. Я ему так и написал на фронт. А мед-то на базаре, знаешь, каких денег стоит? Тучин говорит: осенью на те деньги купим самолет — подарим летчикам. А Тучин, знаешь, он какой: сказал — сделает. Вот увидишь.
У Тучина, действительно, были железные правила: «Все — для фронта! И все — по науке!» Ему хотелось, чтобы колхоз гремел, по меньшей мере, на всю область. И потому он прислушался к очередной рекомендации президента сельскохозяйственной академии наук Трофима Лысенко: «В целях расширения зернового клина, сеять по стерне. Заманчиво: ни пахать, ни лущить — достаточно пройтись бороной по одному следу. А осенью — загребай урожай.
Худо ли?! Выручает академик в трудную годину! Мудрая голова!
На пасеке было две избы. В одной жил Евгений Иванович Грищенко, сухонький старичок, страдавший астмой. Во второй хранились про запас старые рамки с сухими сотами. Там для меня постелили войлок, набили наволочку сеном, дали одеяло, стеганное на кудели. Вася на ночь уезжал в деревню, успевал похороводиться с девчатами.
— Есть одна на примете, — говорил мне. — Красивая. Коса до пояса. По домашности все делает и на пашне — ветерок за ней не угонится! И маме глянется, а… — Сдерживал вздох. — Не знаю — успею ли жениться.
Мы со сторожем по вечерам сидели у костра, пекли в золе картошку. Старик, с трудом подавляя «задышку», рассказывал деревенские байки:
— Была, слышь, у мужика баба. Чем-то не поглянулась — прогнал. Женился на молодой брошенке. Худо ли так-то?! Однова говорит:
«Утром поеду на пашню. Ставь квашню — пеки хлебы». Ладно. Напекла баба мягких булок, сложила в мешок. Приехал мужик на пашню, налил воды в колоду. В какой, знаешь, для коней весной делают мешанку из сена. Перевернул туда мешок. Поехал пахать. Ходит, слышь, за сохой, а сам все на свое остожье поглядывает. Дивится: чего там вороны вьются! Вспахал сколько надо, выпряг коней, пустил кормиться на молодую травку. Глядит: ворон над остожьем не стало, быдто их ветром сдуло. Ну, стало быть, приехал на остожье обедать. Посмотрел, а в колоде пусто. Ни крошки не осталось. Рассердился мужик. Голоднющий. Кишка кишке, слышь, кукуш кажет. Пал мужик на коня, схватил плетку — поехал бабу бить.
Хлещет, слышь, со всего плеча. «Ты, говорит, какого хлеба мне, напекла?! Вот у меня стара-то баба пекла, так по три дня в колоде мочил и то вороны не расклевывали!»
Рассыпав мелкий хохоток, старик принялся вспоминать недавнее:
— По-старому-то лучше. А то вон у нас Тучин, мужик смекалистый, а вздумал сеять по-новому. Какой-то, слышь, наученный человек, будто по-православному звать Трофимом, надоумил в газетах: сей, говорит, не по паханому, а по прошлогодней жниве. Посеяли. А старики говорят: «По ленивке семена разбросали». Ладно ли? Осенью поглядим. Не расклюют ли, слышь, как те вороны, до последней крошки.
Старики-то не зря говорят: «На чужой ум надейся да своим не плошай».
Ночь ложилась тихо, будто на мягкую постель из травы-муравы.
В высоком небе перемигивались звезды. Сон убаюкивал вмиг. А на рассвете меня будили растоковавшиеся косачи. Они чувыкали где-то возле опушки березового колка, шумно подпрыгивали, наскакивая на соперника, а потом рассыпали бесконечную птичью скороговорку: «куры-куры, муры-муры, куры». Умолкали, когда над дальним полем вставало раскрасневшееся солнышко. Я. выходил к рукомойнику, подвешенному на березе. А в двух шагах от меня просыпался на мохнатых зеленых ножках цветок-адонис, прозванный почему-то стародубкой, раскрывал свои веки, будто спорил с солнышком своим золотистым жаром. Милый огнецвет! А над ним уже летал мохнатый шмель в поисках ароматных медунок. Из каждого улья, как по команде, взлетают юркие пчелы — им опередить бы шмеля. Хорошо весной на пасеке! И на какое-то время перестает зябнуть душа от сознания, что далеко на западе гибнут в огне сражений защитники родной земли.
Как там они? Где? На каком огневом рубеже? Неужели еще попятились перед захватчиками? Когда же вперед, к победе? Им там трудно. Очень трудно. Нужна поддержка. От каждого, где бы ни работал человек в тылу. Тучин верит — колхоз не только вырастит и сдаст хлеб фронту, но на деньги от пасеки купит самолет. И мы начинаем загодя расставлять новые ульи. Будет ранняя роса — больше соберем меда.
И я начал очерковую книгу, хотел назвать ее «Лето на пасеке». Пасека важна. Без нее земледелец не обойдется. Для опыления, скажем гречихи, пчелы необходимы. И для люцерны — тоже. И мед колхозу большое подспорье: его выдают на трудодни, после сдачи по государственному, плану, продают на базаре. Для откачки меда мы с Васей уже наладили медогонку, приготовили фляги.
Но мед не главное. «Хлеб — всему голова» — гласит народная поговорка. Особенно сейчас — хлеб нужен фронту. И я назову свою книгу «Лето на полях».
В километре от пасеки — полевой стан первой бригады. Пчелы своим ядом подлечили мои суставы, и я в любую погоду хожу туда каждый день. Там три избушки, не перевезенные из деревни.
В одной из них можно застать для беседы или бригадира Алексея Быкова, или учетчика Михаила Палея, украинского парня, после ранения оставшегося в Сибири. По вечерам он уже хороводится с девчатами, кажется, скоро женится и, думается, навсегда станет сибиряком. Во второй избушке хлопочут поварихи, и аромат борщей разносится по всему стану. Третья избушка маленькая, с крошечным оконышком, самая наиважнейшая для бригады. В ней немудрая лежанка с матрацем и подушкой, набитым луговым сеном, малюсенький столик, с керосиновой лампой и особой табуреткой у которой вместо сиденья натянуты кожаные полоски.
Такие — табуретки любят сапожники. Там давно сгустились острее запахи от новой сбруи, промазанной дегтем, и конским потом, источаемым старыми хомутами. Там живет Тихон Никитич Шмаков, высокий, крепкорукий, с задубелым лицом, исполосованным глубокими морщинами. Он первым приезжает сюда с мартовской оттепелью, когда еще только-только пробиваются в снегах робкие ручейки и уезжает домой последним уже по крепкому зазимку. Он мастер на все руки: и хомут коню подберет по объему шеи, и шлею сошьет самодельными льняными дратвами, пропитанными особым варом, и конопляную веревку совьет нужной толщины, и борону сколотит из просушенных брусков да вобьет в нее заранее приготовленные зубья. К его избушке примыкает сарай, крытый дерном. Там у него на верстаке припасены: рубанок, фуганок, пилки, топоры и стамески. На деревянных крючьях висят хомуты, помеченные кличками лошадей. Тут же седелки, уздечки, словом, все необходимое для упряжки. А в деревянном лагунке деготь для смазки тележных осей. На пригреве солнца сохнут обструганные черенки для лопат, смастеренные им самим грабли с просмоленными головками, березовые вилы с умело погнутыми рожками, притом разные по длине и емкости — длиннущие для кидания сена на высокие стога, средние для укладывания в копны, маленькие для школьников, прибегающих в луга на подмогу. И все это аккуратно выстрогано, просушено. Кто же он, Тихон Никитич, на этом стану? А просто хозяин. И мало ему хозяйских хлопот да забот, он еще объездной. По два-три раза в сутки объезжает все поля, смотрит: не воруют ли деревенские озорники огурцы да горох, не копают ли проходимцы картошку, не дремлют ли нерадивые пастухи. Однажды он из очередного объезда вернулся темной ночью, сказал Мише Малию, что выгнал коров с овсяного поля.